Discover Беседка с Анатолием Вассерманом
Беседка с Анатолием Вассерманом
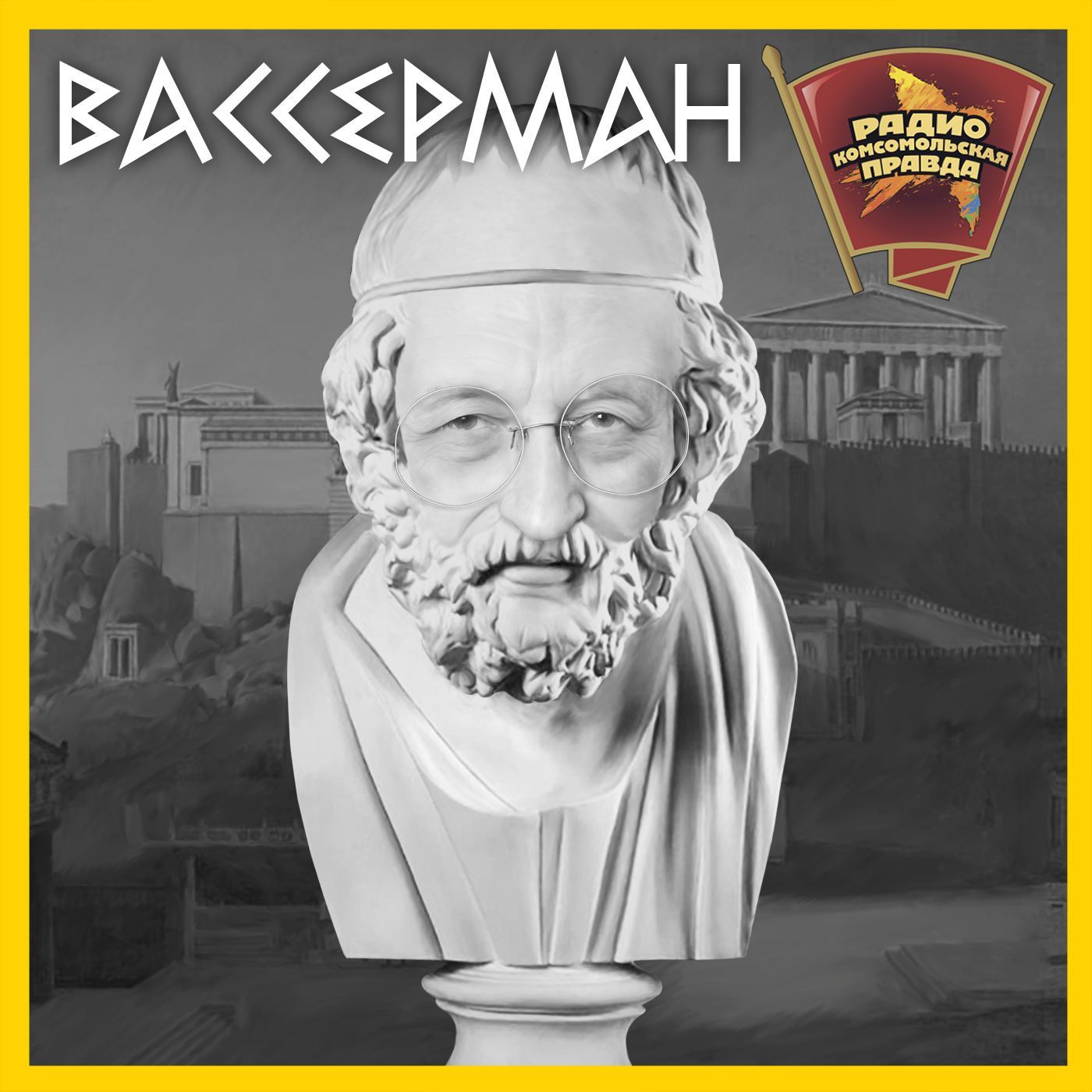
Беседка с Анатолием Вассерманом
Author: Радио «Комсомольская правда»
Subscribed: 153Played: 1,059Subscribe
Share
© Радио «Комсомольская правда»
Description
Авторский проект Анатолия Вассермана. Известный интеллктуал и его гости приглашают слушателей в прямой эфир для живого общения на злободневные или просто душевные темы. Неожиданные повороты беседы!
191 Episodes
Reverse
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-09-11 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-09-11 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Обсуждаем участие Владимира Путина в китайском Параде Победы в программе «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-09-04 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман. Гость: Виктор Мараховский.
Обсуждаем участие Владимира Путина в китайском Параде Победы в программе «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-09-04 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман. Гость: Виктор Мараховский.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-28 01:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Вассерман:
- Здравствуйте. Сегодня в «Беседке» сайта "Комсомольская правда" доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, председатель локального комитета по этике Дмитрий Алексеевич Балалыкин. И обсуждать мы будем тему, которая мне, атеисту с 60-летним стажем, представляется несколько странной, но, похоже, действительно интересует не только моего гостя, а очень многих. В связи с чем я, собственно, его и пригласил. Тема эта: «Взаимоотношения религии и науки». Не буду, как часто здесь делаю, начинать с изложения своей точки зрения, а сразу предоставлю слово моему гостью. Дмитрий Алексеевич, не обижайтесь, если буду перебивать.
Балалыкин:
- Позвольте вас поблагодарить за то, что пригласили. Всегда очень интересно с вами беседовать. А что касается темы, которую мы обозначили, она ведь имеет целый ряд сторон. И для меня, как историка науки, в том числе принципиально важно то, как эти две совершенно разные сферы культуры человеческой, самые разные сферы знания пересекались в развитии моей специальности – истории философии и науки. Проблема-то в чем заключается? Что практически до восемнадцатого века, до Лейбница включительно, да и, по большому счету, девятнадцатого века, не существовало просто религиозных философских систем, которые в своей основе были атеистическими и представляли собой по-настоящему влиятельный, определяющий срез определенной культурной проблемы. Конечно, были там отдельные люди атеистических взглядов. Важно то, что религиозно-философских систем таких не было. И человек так или иначе оперировал категориями высшего существа, взаимоотношениями этого высшего существа с актом его творения – с человеком. И очень важно, что то, что сейчас называется картиной мира ученого, она рождалась в том числе и в ходе этих соображений и размышлений.
И важно понимать, что вне религиозно-философской проблематики исторически достоверно восстановить развитие естественных наук, смену господствующих теорий, развитие знания просто невозможно. А присутствовавшая в повестке дня наша специальность - история философии и науки в ХХ веке – в Советском Союзе и в советской системе в силу государственного атеизма, в силу идеологических соображений, на Западе тоже существовавшая в силу тех же самых идеологических соображений, но несколько с иным знаком, концепция имманентного конфликта религии и науки лишала абсолютно возможности историков науки правильно рассматривать те или иные обстоятельства времен античности, средних веков и так далее, различных культур – европейской, арабской и так далее, - с точки зрения истории науки как таковой. С точки зрения эпистемологической проблематики – смены идей, смены теорий и так далее. Вот в этом вопрос.
Забавно в этом отношении, что неолиберальный тренд, который в западноевропейской мысли существенным образом усиливался, начиная с 30-х годов, и достиг крайней степени своего доминирования уже в завершающей трети ХХ века, чудесным образом с нашими идеологическими, немножечко такими тиранами, может быть, партийными, советскими удивительным образом смыкался. Речь идет о чисто научном вопросе.
Вассерман:
- Это как раз меня не удивляет. Ибо этот самый неолиберализм, как часто бывает с учениями, имеющими приставку «нео», выродился в полную противоположность исходному учению. И нынешний неолиберализм, судя хоть по американской борьбе за толерантность с шашкой наголо, хоть по нашим либералам, искренне верующим, что есть только две точки зрения – либеральная и неправильная, - похоже, что этот самый неолиберализм постепенно выродился в такую тиранию, какая коммунистам и в кошмарных снах не снилась.
Балалыкин:
- Вы совершенно правы. Забавное к этому дополнение. Забавный штрих из нашего научного ландшафра. Из числа наших философов переобулись и стали в наибольшей степени самыми неолиберальными как раз самые заскорузлые бывшие марксисты, которые в советское время были абсолютно твердокаменными марксистами, ни зерна свободной мысли у них не было.
Вассерман:
- Думаю, что если бы Михаил Андреевич Суслов дожил до наших дней, он был бы главным редактором «Эха Москвы».
Балалыкин:
- Охотно в это верю. Действительно, это очень хорошая мысль. Так вот, интересно, что даже в Западной Европе некоторый такой пересмотр этой позиции произошел уже в полной мере только в начале 90-х. Правда, там другая была идея. Там была идея, что эта сакрализация науки на фоне успехов очевидных технологических конца XIX – начала ХХ века, с одной стороны. С другой стороны, вот этот триумф дарвинизма не как научной теории, я думаю, сейчас научной теорией классический дарвинизм никто даже не назовет, а, скорее, тоже как идеология в какой-то степени, даже в очень большой степени идеология.
Вассерман:
- Тут могу себе позволить поспорить. Дело в том, что первоначальный дарвинизм – это действительно была не строгая наука, а, скорее, направление исследований. И современная генетика очень многое в нем изменила. Тем не менее, главная концепция, что совершенствование обеспечивается триадой – изменчивость, наследственность и отбор, - это подтверждается. Причем сейчас мы знаем о каждом из этих трех факторов столько, сколько самому Дарвину и не снилось. Например, выяснилось, что отбор идет, грубо говоря, не на уровне особей и даже не на уровне популяций, а на уровне комплекса взаимодействующих популяций разных видов.
Балалыкин:
- С этим невозможно спорить. И не нужно. Вы сами сейчас ответили на возможный вопрос. Современная эволюционная теория, с учетом особенно данных генетики, мало общего имеет с теми расхожими научпоповскими представлениями, которые охватили американское и английское общество в конце XIX века. Между тем, именно на фоне этих настроений возникла эта концепция имманентного конфликта науки и религии. Даже есть авторы у нее – Дрейпер и Уайт. Они написали соответствующие книги, довольно спекулятивные, даже в качестве источника сейчас не считают нужным серьезные ученые использовать их. Было много критиков, начиная с сэра Герберта Баттерфилда, в 30-е годы работавшего очень крупного английского историка науки и историка естествознания. Но по существу такой перелом, где вот эти клише Дрейпера-Уайта были окончательно отвергнуты, связан с именами Джона Хедли Брука, профессора Оксфордского университета. Кстати, единственная известная мне кафедра, которая так и называется: «Кафедра науки и религии». В том числе некоторые мои личные друзья приложили к этому руку. Профессор Гарри ??, американский ученый, который сегодня состоит на четверть ставки у нас на кафедре профессором. К вопросу о том, что не так уж плохо мы работаем. Приезжает время от времени читать лекции нашим студентам.
Сегодня понятно, что мы можем категории, которые всегда относились к области теологической, в контексте, разумеется, применять абсолютно четко к анализу идей. Особенно это важно для протонаучного периода – до научных революций XVII-XIX веков. Вы не можете понять Платона, натурфилософию Галена, «Корпус Гиппократа». Вот такие важные явления естествознания, истории науки, медицинские и биологические теории Аристотеля вне, скажем, учения о душе, присущего для той или иной натурфилософской системы. Более того, это бросается в глаза, когда мы сейчас вводим в научный оборот много источников, перевода Галена с древнегреческого, который на русский язык раньше не переводился, а без этого вообще понять историю медицины невозможно. Это все равно что Ньютона не читать и физику пытаться изучать.
Вассерман:
- Раньше предполагалось, что любой медик должен владеть греческим и латынью достаточно, чтобы читать первоисточники.
Балалыкин:
- Это было очень давно. Я думаю, в начале XIX века так и предполагалось. Например, критическое издание Галена Кюном – там латинский и древнегреческий протограф. Там даже немецкого перевода нет. Но мы говорим о событиях последних 50-60 лет.
Вассерман:
- Когда у нас, как говорят студенты, «латынь умирает, но не сдается».
Балалыкин:
- Я сам имел тройку по латыни в свое время. Потому что конфликтовал с преподавателем. Это была моя единственная тройка среди всех пятерок длительное время на первых курсах. Потом возникли еще четверки. Там был личный конфликт. Эта подготовка очень помогает. Работа с текстом тяжелая. Приведу пример с точки зрения проблематики религии и науки. Структура знания в донаучной теории. Это важный вопрос. Мы видим такую проблему как, с одной стороны, Аристотель, и вообще Ликий в целом, это начало фактически систематических анатомических скетчей. Я уверен, что и вскрытие человеческих тел там тоже было. Очень точно описывает Аристотель топографическую анатомию сердца именно у человека. Невозможно по-другому это увидеть. Был значительный объем ран с холодным оружием, была возможность наблюдать анатомию. С одной стороны. А с другой стороны, вскрытие. Ликий – это Мекка вскрытия того времени. В III веке до рождества Христова вскрытие человеческих тел уже системное, относительно которого даже слово «эксперимент» даже сейчас используют в историографии спокойно совершенно. Потому что они действительно отвечают всем критериям экспериментального исследования.
А с другой стороны, Аристотель упорно утверждает, что нервы исходят от сердца. И это в значительной степени на окольную дорогу направляет развитие медицины в интервале между третьим веком от рождества Христова и вторым веком, до Галена. Медицина между Герофилом и Галеном. А медицина здесь очень важный аспект. Потому что, по существу, если мы, как это принято в историографии, считаем, что рождение рациональных методов познания в науке – это шестой век до рождества Христова, то получается, что есть только три научных дисциплины, которые современники вообще рождения рациональной науки. Это математика, астрономия и медицина. Физика – это
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-28 01:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-14 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Вассерман:
- Очень жаль, но «Беседка» «Комсомольской правды» окончательно ушла из эфира в сайт. Так что задавать вопросы вам в обозримом будущем не удастся впредь до очередного изменения формата станции. Поэтому мой сегодняшний гость – публицист и популяризатор науки Алексей Сергеевич Кравецкий будет отвечать на те вопросы, которые он не раз получал по ходу своей деятельности. В основном будем сегодня говорить об эволюции и ее многочисленных теориях. И, к сожалению, не менее многочисленных заблуждениях вокруг этих теорий.
Кравецкий:
- Сначала давайте скажем, что такое эволюция. Существует куча заблуждений по поводу самого определения этого термина. Многие думают, что эволюция – это когда из ничего произошло что-то упорядоченное. Бывает, люди путают эволюцию и теорию зарождения жизни. Бывают люди, которые сужают понятие эволюции до происхождения человека из обезьяны. Заблуждений весьма много. А на самом деле эволюция – это некий специфический процесс, в рамках которого мы имеем некий набор особей. Причем, что интересно, это не обязательно должны быть особи кого-то живого. Мы можем также наблюдать эволюцию, например, каких-нибудь технических устройств. Потому что присутствуют некие три свойства у каждой особи. Есть наследственность, есть изменчивость и есть отбор. Часто говорят про естественный отбор, но это не обязательно. Отбор вполне может быть искусственным, как во время селекции. Эволюция все равно будет идти.
Можно пояснить это на примере. Предположим, у нас есть ребенок, который собирает из конструктора какую-то башенку. Он собирает башенку за башенкой, каждую башенку дает посмотреть своему папе. Папа проверяет ее на устойчивость и возвращает ему со словами, хорошо или плохо стоит башенка. Ребенок помнит, как устроена эта башенка, но, тем не менее, при сборке следующих копий он иногда какие-то фрагменты устройства забывает, придумывает вместо них другие фрагменты. Вот в этом процессе мы имеем все три свойства эволюционного процесса. Наследственность – это память ребенка о том, как устроена башенка. Изменчивость – это те ошибки или модификации, которые он совершает. И отбор – это собственно реакция его папы на то, какой именно вышла башенка.
Из бытового опыта вполне понятно, что в этом случае башенка будет получаться все более и более устойчивой. То есть в этом люди обычно не отказывают в такой ситуации. Однако как только дело доходит до многообразия живой природы, у людей начинаются сомнения: как же так, вроде какой-то случайный процесс, и вдруг такое разнообразие, такая устойчивость видов и так далее. Давайте поменяем чуть-чуть звенья этого процесса. Предположим, что папа с ребенком не играет, а ребенок играет сам с собой. Он играет где-то на улице, ставит башенку на какую-то поверхность. А там временами ветер дует или земля трясется. Соответственно башенка либо падает, либо не падает. Мы таким образом поменяли искусственный отбор, то есть отбор с участием человека, на естественный. Реакция сил природы, неких закономерностей природы на получившийся объект. Далее ребенок сознательных модификаций не вносит. Он просто временами забывает, как строится какой-то фрагмент. И восстанавливает его по памяти с ошибкой. Это случайная мутация. И, наконец, наследственность у нас остается все той же самой. Он помнит, как эта башенка устроена.
Что интересно, поскольку самому алгоритму совершенно все равно, естественно или искусственно отбирают его детали, случайные или специальные модификации вносятся в каждую следующую копию, он все равно будет стремиться к более устойчивой башенке. Единственное в данном случае, когда модификация случайная, он будет к этому стремиться медленнее. Вот главное отличие.
Вассерман:
- Строго говоря, в этом примере есть все-таки одно существенное отличие от той эволюции, которая в природе. А именно, в природе у нас эти самые башенки сами хранят правила собственной сборки и сами формируются сообразно этим правилам. Нет отдельного мальчика, который их строит.
Кравецкий:
- Да, естественно. Но это частный случай эволюционного процесса. То есть в общем случае нам достаточно того, чтобы что-то хранило информацию, это мы назовем условно «генотип». И эта информация выливалась во что-то, что как-то взаимодействует с окружающим миром, то есть «фенотип». При этом все равно, сочетается ли это в рамках некоего одного объекта организма, либо же это два отдельных организма. Как я уже говорил, мы вполне можем наблюдать эволюцию автомобилей, которая работает ровно так же, то есть средством отбора выступают взгляды покупателей автомобилей, но при этом наследственность и изменчивость находятся не в автомобилях, а исключительно в головах их конструкторов.
Вассерман:
- Да. Но все-таки естественная эволюция – это именно случай, когда нет конструктора, отдельного от конструкции.
Кравецкий:
- Видимо, вот это и составляет основную сложность для понимания процесса. Потому что кажется, когда это хранится где-то вовне, тут все нормально, все стремится к некоему более устойчивому варианту. А если нечто как бы само себя строит, то оно стремиться к этому варианту не может. Хотя нет, с математической и с биологической точки зрения совершенно идентичный случай, различающийся деталями.
Вассерман:
- С психологической совершенно иначе это выглядит. Потому что именно, если у нас наследственность хранится внутри самой конструкции, то возникает вопрос: а как возник сам механизм наследственности? И тут мы вынуждены все-таки включить вопрос происхождения жизни в теорию эволюции. Хотя я знаю, что современные биологи стараются от этого дистанцироваться. Но боюсь, что именно в силу того, что они от этого дистанцируются, и остается впечатление, что зарождение жизни возникло не эволюционным путем. А между тем я знаю, что было проведено множество экспериментов, показавших, что в совершенно естественных условиях, таких как, скажем, космический вакуум или поверхность метеоритов, или выборосы вулканов и так далее, и так далее, практически в любых подобных условиях происходит отбор устойчивых структур химических соединений. И, в принципе, совершенно понятно, каким именно образом в конце концов отбираются соединения не только устойчивые, но и способствующие формированию новых молекул тех же соединений. Это то, что в химии называется автокатализом. Когда молекула способствует образованию таких же молекул, как она сама. К сожалению, насколько я могу судить, наши современные биохимики сейчас занимаются совершенно иным спектром задач, очень далеким от исследований автокатализа. И поэтому создался вот такой психологический разрыв.
Кравецкий:
- Тут можно сказать, что не то чтобы биологи дистанцируются от этого. Просто это был вопрос терминологии. Не сразу стало понятно, что происхождение жизни, то есть абиогенез, шел такими же путями, как эволюция, только на других носителях. Сначала предполагались какие-то иные пути. Поэтому это разделили на две части. Эволюция – это развитие живого, абиогенез – это появление живого. Рано или поздно они, естественно, сольются. Потому что, как вы правильно сказали, сейчас уже вполне понятно, что появление живого шло примерно такими же путями, просто начиналось с менее сложных молекул и с менее сложных процессов. То есть процессы, может быть, нам кажутся более сложными, имеется в виду с химической точки зрения.
Вассерман:
- Вообще говоря, самые, пожалуй, сложные молекулы, способные вызывать вот этот самый автокатализ, это молекулы рибонуклеиновой кислоты, которые используются в высокоразвитых организмах как носители наследственной информации между основным ее депо – ядром клетки – и белковыми структурами той же клетки. Но есть и простые организмы, в которых эти самые рибонуклеиновые кислоты заодно работают и как носитель информации. И вот, насколько я помню, несколько десятилетий назад химики пришли к выводу, причем именно химики, что в определенных условиях эти самые молекулы РНК могут способствовать построению своих точных копий, даже без сложных белковых систем - ферментов, просто из раствора. Конечно, эффективность такого копирования очень низкая. И вероятность ошибок соответственно высокая. Но тем не менее, получается, что до наших дней дошло элементарное звено первичного перехода между неживыми и живыми структурами.
Кравецкий:
- Тут можно сказать, что это даже хорошо. Если к природе применимо такое слово, как «хорошо» или «плохо». На первом этапе нам, наоборот, нужна большая вариабельность. Это потом надо нам снизить количество мутаций, количество ошибок копирования, чтобы значительную роль начал играть уже отбор. А на первом этапе нам надо получить некое разнообразие изначальное. В этом случае нам повезло, скажем так. То, что на ранних этапах они копировались с большим количеством ошибок.
Вассерман:
- Более того, оказалось, что РНК благодаря своему значительному размеру и, соответственно, значительному диапазону вариантов, в принципе, могут формироваться такие варианты РНК, которые способствуют формированию чего-то типа белков. Почему говорю «чего-то типа», потому что современные белки состоят, как правило, из компонентов достаточно сложных. Но есть простейшие аминокислоты, компоненты белковых цепочек. И вот кристаллизации таких простых цепочек уже белкового типа РНК тоже могут способствовать. Так что, не вдаваясь в дальнейшие биохимические тонкости, которые я сам помню довольно смутно, могу только сказать, что, по-видимому, ключевым моментом перехода от неживой химии к живой были именно молекулы РНК. С одной стороны, достаточно сложные, чтобы способствовать разным весьма хитрым химическим процессам, а с другой стороны, достаточно простые, чтобы собираться самостоятельно из компонентов, образующихся в результате очень простых химических реакций.
Кравецкий:
- Действительно, давайте не будем совсем в химию, в биохимию уходить. Тем более, что мы сейчас без справочных материалов с большой вероятностью внесем кучу ис
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-14 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-07 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Вассерман:
- Здравствуйте. Моя «Беседка» на «Комсомольской правде», похоже, окончательно переселяется с эфира на сайт. Так что вопросы, которые мои гости со мной обсуждают, придется нам теперь брать уже только из общих источников, а не ваших звонков. Прошу прощения. Есть к тому серьезные технические причины. Но, во всяком случае, мой сегодняшний гость – руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Симиндей изучил за время своей работы столько вопросов, что, надеюсь, сможет обсудить и те, что интересны для вас.
Симиндей:
- Здравствуйте.
Вассерман:
- Обсуждать мы сегодня будем тему «Век латышских стрелков». Ибо известно, что и это вроде бы не очень большое по численности воинское соединение, и не очень большая по численности часть нашей страны сыграли в нашей истории за прошедший век непропорционально большую роль. И стоит поговорить, какой она была в разные эпохи. Тем более, что Владимир Владимирович знает все, связанное с Латвией, настолько хорошо, что объявлен там персоной нон-грата. Ибо знает о Латвии очень много, что нынешние ее правители предпочли бы никогда не вспоминать.
Симиндей:
- Латышские стрелки, действительно, оказали очень существенное влияние на жизнь нашей страны. Но не в весь период своего существования. Напомню, что как раз 1 августа 1915 года они были военным руководством России созданы. То бишь мы отмечаем сейчас столетие со времени создания. Но не с 1915 года по 1920 год или во времена существования латышской стрелковой дивизии или латышского стрелкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, а особая у них была роль в 1918 году. Я бы сказал, чрезвычайно особая роль летом 1918 года. И, в общем, довольно заметная роль в целом в период Гражданской войны на территории России в целом, включая Латвию того периода.
Вассерман:
- О соседней земле – Эстонии – в фильме «Красная площадь», повествующем о той эпохе, устами уроженца Эстонии, персонажа этого фильма Уно Партса, сказано: «У эстонца колыбель маленький – его Эстония. Зато у него могила большой – весь мир». Вот примерно так же получилось и с латышскими стрелками. Колыбель у них была маленькая, но побывали они и умирали они практически по всему миру и во имя всего мира. И особенно много они сделали, конечно, внутри Российской империи. При всех ее последующих реинкарнациях тоже. И, собственно, почему они проявили такую политическую активность?
Симиндей:
- Надо сказать, что поначалу латышские стрелки были совершенно аполитичными в плане внутренних коллизий и конфликтов. Имеется в виду – социальной борьбы, левых лозунгов и так далее. Те, кто шел в 1915 году добровольцами служить в российскую армию, это были латыши, преисполненные, уж не знаю, честного или притворного, но легитимзма и верноподданичества в адрес царя, желания показать, что латышский народ заодно, рука об руку с русским народом воюет с закоренелым своим старым врагом – немецким народом. Здесь была определенная натяжка, потому что латыши хотели с помощью вот этой мировой войны перераспределить власть и собственность на территории Курляндии, Лифляндии и добиться того, чтобы балтийское немецкое меньшинство перестало быть привилегированным в глазах Петрограда. И ради этого оно, конечно, старалось путать балто-немецкие какие-то обиты с великонемецкими державными планами. Надо сказать, что кайзеровский рейх этому способствовал. Потому что чрезвычайное продвижение кайзеровских войск на Курляндию с весны 1915 года, когда был захвачен очень важный порт Либава и губернский центр Митава, конечно, способствовало разжиганию этих настроений. Потому что Латвия, по сути, была разделена две части.
Вассерман:
- Либава – это сейчас Лиепая, а Митава – Елгава.
Симиндей:
- Это тоже очень крупные города. Хотя, конечно, их роль сейчас гораздо меньше, чем при царе-батюшке или в советское время.
Вассерман:
- Вообще надо пояснить, что до революции латыши отродясь не бывали, как говорили, государствообразующим народом. То есть они жили на землях, входивших в состав каких-нибудь других государств. И, к сожалению, при всех переходах из одного государства в другое над ними всегда оставалась группа остзейских, то есть восточно-балтийских немцев. И, именно пытаясь отождествить остзейских немцев с имперскими, латыши и пошли доказывать свою воинскую доблесть и верность царю и Отечеству.
Симиндей:
- Надо сказать, что в больших крестьянских семьях младшие сыновья воспринимали возможность служить в российской армии хоть унтер-офицером, а уж тем более поучиться с юнкерском училище и получить хоть какие офицерские погоны, как важный социальный лифт. И если не счастье, то очень хорошую возможность закрепиться в этой жизни. Потому что земли им не светило, кроме как в Сибири, может быть. А добиться хорошего образования, не имея денег, тогда было тоже невозможно. Поэтому оставался вот такой социальный лифт, как унтер-офицерство и юнкерство. И многие этим воспользовались.
Вассерман:
- Кажется, в имперской армии генералов-латышей не было…
Симиндей:
- Были. Был генерал Мисин, были, и полковников много. И были белогвардейские генералы.
Вассерман:
- О том, какую воинскую доблесть латыши показали во время первой мировой войны, мы поговорили. Прежде чем мой гость перейдет к следующему этапу их деятельности, я процитирую один пассаж, который показывает, насколько сложная штука – экскурс в историю для человека, который, в отличие от моего гостя, историей профессионально не занимается. Передо мной лежит номер «Комсомольской правды» с небольшим интервью одного весьма уважаемого и, насколько я знаю, весьма знающего в целом человека. Не буду называть его фамилию. Я думаю, что ему потом когда-нибудь будет стыдно за его слова. Но все-таки процитирую первые вопрос и ответ: «Вы помните своего учителя истории?» - «Не хочу ее вспоминать. Когда я стал читать книги на английском, я понял, что она постоянно лжет. Генерал Паттон маршалу Жукову говорил: «Если бы я одерживал такие феерические победы, как вы, я бы давно сидел в тюрьме. Потому что у нас есть определенный процент погибающих. Если я превышу определенную планку, то меня отправят за решетку за то, что гроблю американцев. Как я вам завидую, господин маршал». Как я мог после таких документов доверять школьной учительнице?»
Так вот, сразу же, не дожидаясь комментария профессионального историка, скажу, что мне непонятно, как можно вообще называть мемуары документами. Мне непонятно, как может уважаемый вроде бы человек не знать классическую поговорку юристов всех времен и народов «врет как очевидец». Мне непонятно, как может человек, вроде бы интересующийся историей, не знать, что из всех наших военачальников, при прочих равных условиях, потери были наименьшие именно у Жукова. Собственно, ему потому и приходилось воевать, как правило, не в прочих равных условиях, а на тяжелейших участках фронта. Что он лучше всех остальных умел беречь солдат. И уж кому-кому, но не Паттону такое говорить. Поскольку Паттон даже в своей американской армии имел репутацию, во-первых, сорвиголовы, во-вторых, мясника. То есть, если Паттон действительно такое писал, он попросту перекладывал со своей головы на здоровую.
Симиндей:
- Надо сказать, что это все англосаксонские штучки. Подобное квотирование потерь было характерно для заокеанских армий или армий за проливом. Ни у немецкой армии, ни у французской армии, ни в первой мировой, ни во второй мировой таких понятий не было. Потому что речь шла о жизни и смерти.
Вассерман:
- Честно говоря, я не уверен, что такое квотирование было у американцев. Паттон мог и приврать задним числом.
Симиндей:
- На самом деле, может быть, не было таких четких инструкций, но определенное ощущение и давление со стороны политических конкурентов, руководства на военных было. Надо сказать, что иногда это играло для нашей страны позитивную службу. Потому что в сворачивании иностранной военной интервенции в годы гражданской войны в России немалую роль сыграла разочарованность в одной политической силе Великобритании и приход ей на смену другой, в результате чего они вынуждены были и в преддверии даже этого сворачивать свое наступление.
Вассерман:
- Там, мне кажется, дело было не в потерях, а в том, что потери не сопровождались видимым политическим результатом.
Симиндей:
- Во всяком случае, усталость от войны накладывалась на довольно грамотную работу советской пропаганды тогда. От «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до «Руки прочь от Советской России!». Нам сейчас в условиях интернета, огромного давления информационного шума кажется, что это пустые слова. А тогда это был очень звонкий колокол. И эти слова доходили до сердец очень многих людей. И факты того, что, скажем, французские моряки в Одессе были распропагандированы просоветским подпольем, это же, действительно, исторический факт.
Вассерман:
- Причем даже после того, как большая часть руководителей подполья оказалась арестована и расстреляна, вброшенные ими в массы идеи продолжали там бродить и размножаться. И в итоге уже после их расстрела французы оказались вынуждены вывести полностью свой флот и армию из нашей страны. Именно благодаря вот этой пропагандистской работе.
Симиндей:
- Надо сказать, что как раз французы, англичане и отчасти американцы поспособствовали тому, что не оккупированная немцами часть будущей Латвии, а именно – Лифляндия и отчасти Латгальские районы Витебской губернии, которые были весьма и весьма большевизированы, надо сказать, что это проявлялось и на выборах как в местные органы власти в 1917 году, так и в Учредительное собрание России, так вот, только с помощью иностранных военных штыков удалось там окончательно в 1919-1920 году сковырнуть Советскую власть, тогда как настроение значительной части населения и большей части латышских стрелков было просоветским.
Вассерман:
- Да. Но латышские стрелки к тому времени находились, по-моему,
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» РАДИО «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-08-07 17:00:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» радио «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-07-24 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» радио «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-07-17 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман. Гость: Виктор Мараховский.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» радио «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-07-17 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман. Гость: Виктор Мараховский.
Тегерану понадобится немало товаров, купить которые он сможет у нашей страны [аудио]. Выпуск от 2015-07-15 19:30:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Наш колумнист рассуждает о том, почему чиновничество неискоренимо радио «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-07-13 20:30:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Эфир программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» радио «Комсомольская правда» [аудио]. Выпуск от 2015-07-03 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман. Гость: Виктор Мараховский.
Анатолий Вассерман пытается разобраться с тонкостями подковерной борьбы в войне санкций [аудио]. Выпуск от 2015-06-26 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Анатолий Вассерман пытается разобраться в вопросе всей мощью своего интеллекта [аудио]. Выпуск от 2015-06-19 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Как это происходит на деле, Анатолию Вассерману рассказывает специалист по оборонной промышленности Алексей Рогозин [аудио]. Выпуск от 2015-06-05 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.
Или почему некоторые постоянно говорят, что дальше будет только хуже [аудио]. Выпуск от 2015-05-15 17:05:00. Ведущий: Анатолий Вассерман.


















