Discover Медведь сидел на Ветви, размышляя об «Оскаре»
Медведь сидел на Ветви, размышляя об «Оскаре»
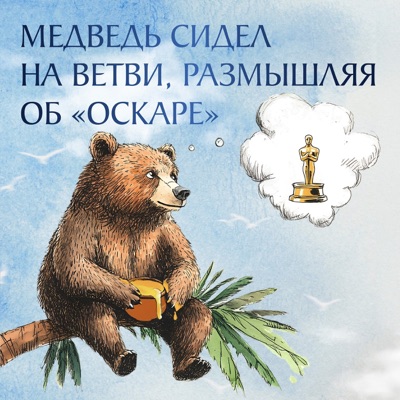
Медведь сидел на Ветви, размышляя об «Оскаре»
Author: Гия Сичинава, Виктор Гущенец, Иван Цуркан
Subscribed: 2Played: 31Subscribe
Share
2025 © Гия Сичинава, Виктор Гущенец, Иван Цуркан. Все права защищены.
Description
Это (ещё один) подкаст о кино и (иногда) сериалах и его ведущие: кинокритик Иван Цуркан, кинолюбитель без титула Виктор Гущенец и ещё один кинокритик Гия Сичинава. Будем вместе с вами плескаться на поверхности кино и иногда погружаться в его темные глубины. Но не слишком глубоко и не слишком надолго.
Музыка: All Good Folks; Volodymyr Piddubnyk.
Обложка: Ксения Калинина.
Звук: Сергей Мартынов, Виктор Гущенец.
Для связи: sittingbear@mail.ru
Телеграм-канал: https://t.me/sittingbear
12 Episodes
Reverse
Наш двенадцатый выпуск посвящён четвертому фильму Ари Астера — то ли вестерну, то ли фарсу, то ли очень чёрной комедии под названием «Эддингтон». Эддингтон — это вымышленный городок в штате Нью-Мексико, который становится ареной противостояния неуравновешенного шерифа (Хоакин Феникс) и нечистого на руку мэра (Педро Паскаль). Что особенно важно, действие у Астера разворачивается в самый разгар пандемии ковида и протестов Black Lives Matter.
Зачем вообще снимать и смотреть кино про проклятый 2020-й сейчас? Сознательно ли режиссёр «Реинкарнации» и «Солнцестояния» смешивает жанры, и почему «Эддингтон» всё равно можно называть вестерном? Снимает ли Астер универсальную историю или же создает актуальное высказывание исключительно об Америке? Почему фильм так сильно заряжен политически и насколько важен для его понимания социальный контекст?
Примерно такой круг тем мы пытаемся охватить в новом выпуске, подробно обсуждая сложносочинённую жанровую природу «Эддингтона» и то, как этот фильм отражает разные формы человеческого безумия. Но главным вопросом всё равно остается один: неужели всё это всерьез, или же это просто режиссёрский сарказм и какая-то безумная насмешка?
Мы вернулись! В первом выпуске второго сезона к нам присоединилась замечательная кинокритик и лектор Оксана Агапова. Объединив усилия, мы попытались разобраться в устройстве нежного, ироничного и вместе с тем горького драмеди Евы Виктор «Прости, детка».
Этот очень личный и при этом близкий всякому зрителю с открытым сердцем фильм не столько о травме, сколько о ее переживании получил награду за сценарий на «Сандэнсе» и был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» в Каннах. Круглая дебютантка Виктор показала себя одновременно как тонкий драматург, талантливый режиссер и крайне обаятельная актриса. Кажется, американское инди-кино породило еще одного неординарного и многообещающего автора.
В кинотексте фильма — одновременно литературном и кинематографическом — много нюансов и находок, которые мы приметили и поспешили поделиться с вами. А еще ответили на некоторые животрепещущие вопросы, которые, возможно, остались у вас после просмотра. Зачем Виктор насыщает кадр всеми этими культурными отсылками? Может ли действительно хороший сэндвич спасти о-о-о-чень плохой день? Как проза жизни уравновешивает поэзию травмы? Как Лукас Хеджес прокладывает мостик к Кеннету Лонергану и традициям американского инди? И последнее — что же случилось с бедной мышкой?
Кажется, что немногие смогли остаться равнодушными к новому фильму Селин Сон — режиссера, которая трепетно рассказывала о любовных переживаниях в своем триумфальном дебюте «Прошлые жизни». Но мы постарались и нашли в нашей собственной редакции по крайней мере одного человека, на которого не подействовало обаяние истории суперагентки дейтинговой службы Люси, выбирающей между любовью и комфортной жизнью, разумом и чувствами, комнаткой в Бруклине и роскошным пентхаусом на Верхнем Вест-Сайде, спорами из-за парковки и личным водителем, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, Джонни Факелом и мистером Фантастиком.
Что делает сюжет «Материалистки» особенным и отличным от канонов ромкома? А ромком ли это вообще? Как и зачем Сон использует параллельную драматическую линию? Удаётся ли ей соединить и примирить тональности двух разных жанров и избежать схематичности? В чём прошлое, настоящее и будущее ромкомов? Почему мы больше не хотим их смотреть и как развитие либидинальной экономики влияет на наше представление о романтической любви?
Всё это и многое другое мы обсудили в нашем юбилейном 10-м выпуске, которым закрываем первый сезон нашего подкаста. В ожидании возвращения подписывайтесь на наш канал в Telegram, который живет своей жизнью и поможет вам скрасить часы отчаянного ожидания новых выпусков.
Можно ли пересказать сюжет о Золушке так, чтобы удивить современного зрителя? «Гадкая Сестра» норвежки Эмили Блихфельдт, показанная на Сандэнсе и Берлинале, кажется, отвечает на этот вопрос утвердительно. Ведь в этой «Золушке наоборот» в центре повествования оказывается вовсе не прекрасная белокурая Агнес, а ее уродливая сводная сестра Эльвира, и сказка в итоге превращается в череду пугающих физиологических превращений.
Как Блихфельдт критикует культ красоты? Как именно в фильме работают авторская ирония и откровенный режиссёрский сарказм? Какие архетипы можно распознать в сказке о Золушке, и почему ученица Юнга видела в ней историю внутреннего взросления женщины? Наконец, в чём отличие боди-хоррора от бьюти-хоррора?
Такие совсем не сказочные вопросы мы и ставим перед собой в этом выпуске, попутно обращаясь к барочным натюрмортам и эстетике безобразного, отыскивая фаллические символы и поминая лихом старину Проппа. Всё для того, чтобы понять, а зачем вообще переснимать сказки сегодня?
Джек Торренс из «Сияния», Уильям Фостер из «С меня хватит!», Серфер из недавнего «Серфера». Все они мужчины средних лет, нашедшие выход из кризиса среднего возраста в медленно поглощающем их безумии. Джош из «Крутого поворота» один из их числа. Фильм Джейсона Бакстона может показаться блеклым и непритязательным слоубернером на избитую тему, но его кажущаяся скромность обманчива. В новом восьмом выпуске мы поговорили о многочисленных нюансах сценария, психологической проработанности персонажей, пресловутом кризисе мужественности, социальных ролях героев, важности этики и вторичности эстетики для Бакстона, неочевидных религиозных и экзистенциалистских мотивах сюжета и, конечно же, о Хайдеггере и старине Кьеркегоре.
Седьмой выпуск подкаста посвящен четвертому (и довольно безумному) полному метру Лоркана Финнегана. В нём обеспеченный мужчина средних лет всего лишь хочет покататься на доске под палящим австралийским солнцем, но вместо этого медленно, но верно сходит с ума.
«Сёрфер» — очередной эффектный треш категории B или религиозное переосмысление токсичной маскулинности? С какой целью фильм пытается оседлать австралийскую Новую волну? Зачем Финнеган критикует современное общество, и помогают или мешают ему рамки жанра? И наконец, как эта кинопритча о ловушке Мужского Братства и Доме на Холме встраивается во вселенную безумия великого и ужасного Николаса Кейджа?
Примерно по таким темам мы и дрейфуем в этом выпуске, то пускаясь по неожиданным подводным течениям, то снова выбираясь на поверхность. Бонусом рассказываем краткую историю сёрфинга в кино и наблюдаем за австралийской фауной. Но главное — ставим вопрос ребром: Сёрфер — Силач или Слабак?
В этом выпуске мы решили впервые обратиться к современному российскому кино — и поговорить о прогремевшем на «Маяке» и показанном в Роттердаме полнометражном дебюте Ренаты Джало.
На первый взгляд, «На этой земле» — странная история об искусственных крыльях в декорациях русской деревни XVIII века. Но о чем фильм на самом деле? Это социальный комментарий или, наоборот, попытка сбежать от действительности? Почему речь персонажей не разобрать, а историческое время у Джало условно? И есть ли вообще у этого черно-белого мира личное измерение?
Ответы на эти вопросы мы ищем, чтобы понять — получилось ли у Джало оригинальное авторское высказывание или же фильм так и остался спорным набором расхожих клише. А заодно обсуждаем, почему документальное в кадре перемешано с художественным, какие отсылки имел(а) и не имел(а) в виду автор(ка), и причем тут Андрей Тарковский, Алексей Герман и Роберт Эггерс.
Пока другие режиссёры без конца пересказывают биографии музыкальных идолов миллионов, вроде Боба Дилана и Элтона Джона, братья Коэны придумывают собственных героев — абсолютно оригинальных и безнадёжно неудачливых. В музыкальном (не)байопике «Внутри Льюина Дэвиса» они рассказывают историю бедствий бесприютного нью-йоркского фолк-музыканта, чей талант оказывается недостаточно ярким, чтобы сделать его звездой, и чья слишком строптивая натура не позволяет ему соглашаться на меньшее. В юбилейном пятом выпуске мы попытались разобраться, чем история колючего и неудачливого Льюина смогла очаровать столько критиков и зрителей, как братья Коэны создали мир «внутри Льюина Дэвиса», чему нас учит бегущая на месте история неудач музыканта, какую роль в ней играет кот и причём здесь Улисс и Людвиг Витгенштейн.
Коэновская ироническая одиссея страданий вышла в повторный прокат 10-го апреля и её ещё можно (и нужно) застать на больших экранах.
Второй сезон «Разделения» наконец закончен — поэтому мы решили посвятить противоречивому сериальному детищу Бена Стиллера и Дэна Эриксона ещё один выпуск!
«Разделение» сохранило фирменную загадочную атмосферу, продолжив исследовать темы человеческой дуальности, сопротивления, подчинения, переживания утрат и других состояний, на которые люди часто обрекают самих себя.
Но от первого сезона продолжение отличается примерно всем — так что в выпуске мы подробно обсуждаем визуальный язык и жанровую природу сериала, сравниваем, как изменились герои, ищем отсылки и критикуем драматургию, пытаясь разобраться, что на этот раз получилось, а что нет. В общем, старательно формулируем свои претензии ко второму сезону и ищем за что его похвалить. Всё ради ответа на главный вопрос: действительно ли «Разделение» свернуло куда-то не туда?
В новом академичном и монументальном выпуске мы наконец оправдаем наше название — и поразмышляем о прошедшей церемонии наград Американской киноакадемии, её главных сюрпризах и неудачниках.
Почему «Анора», а не «Бруталист»? Какого чёрта на «Оскаре» забыла «Эмилия Перес»? Какие фильмы могли, но не получили номинацию? Файнс всё-таки Рэйф или Ральф? А Брэйди Корбе или Корбет? Этими и ещё многими другими вопросами мы задаемся вместе с нашими гостями — кинокритиками Егором Москвитиным, Алисой Таёжной, Тимуром Алиевым, Антоном Фомочкиным и Максимом Ершовым.
Пока мы смотрели «Разделение», у нас возникало множество вопросов, на которые не было ответов.
Поэтому во втором выпуске подкаста мы решили обсудить один из самых загадочных сериалов последних лет, вокруг которого с самого начала появилось немало теорий, и они продолжают появляться.
О них мы и будем говорить. Чем на самом деле занимается таинственная корпорация Lumon? Каким целям на самом деле служит процедура разделения сознания? Чем занимается отдел обработки макроданных? И, в конце концов, зачем нужны козлы?
В пилотном выпуске попытаемся понять, что делает «Конформиста» одним из важнейших фильмов в истории кино.
Разберёмся, в чём состоит метод работы Бертолуччи и его бессменного оператора Витторио Стораро.
Поговорим о психоанализе и его важности для режиссера, лучшей роли Жан-Луи Трентиньяна, а ещё о том, как Бертолуччи понимал конформизм.
И, конечно же, ответим на главный вопрос, не дающий покоя всем зрителям уже более 50 лет — причём здесь пещера Платона и вездесущий Жан-Люк Годар?





